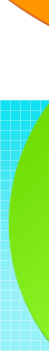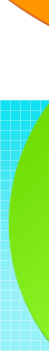Глава 2
Мэтью Касберт удивляется
Мэтью Касберт и его гнедая неспешной трусцой
преодолели восемь миль, отделявшие их от Брайт Ривер. Это была чудесная
дорога, по обе стороны которой расположились ухоженные фермерские
усадьбы. Порой она пересекала то участок, поросший душистой смолистой
пихтой, то долину, где к ней протягивали свои ветви дикие сливы, все
усыпанные цветами. Воздух был пропитан ароматами бесчисленных яблоневых
садов, луга терялись на горизонте в опаловых и пурпурных отблесках, а
птички пели так, словно это был единственный погожий день в году.
Мэтью наслаждался поездкой. Ее портили только те
минуты, когда ему приходилось кланяться женщинам, встречавшимся ему по
дороге. На острове Принца Эдуарда принято кланяться каждому встречному,
знакомому и незнакомому.
Мэтью боялся всех женщин, кроме своей сестры Мариллы и
миссис Рейчел. У него всегда было неприятное впечатление, что эти
таинственные существа втайне смеются над ним. Он не был далек от истины,
потому что внешность его была довольно странной — нескладная фигура,
длинные с проседью волосы, спускающиеся на сгорбленные плечи, и пышная,
мягкая темная борода, которую он отпустил, когда ему было двадцать. По
правде говоря, он и в двадцать выглядел так же, как теперь, в
шестьдесят. Только тогда в волосах его не было седины.
Когда он добрался до Брайт Ривер, никакого поезда не
было видно. Он подумал, что приехал слишком рано, а потому привязал
лошадь во дворе маленькой станционной гостиницы и прошел в здание самой
станции. Длинная платформа была почти пуста. Единственным живым
существом здесь была девочка, сидевшая на сложенных в самом конце
платформы кровельных досках. Мэтью, заметив только, что это — девочка,
бочком проскользнул мимо нее так быстро, как только мог, стараясь не
глядеть в ее сторону. Если бы он взглянул на нее, то не смог бы не
почувствовать напряженную скованность и ожидание во всей ее позе и
выражении лица. Она сидела, ожидая чего-то или кого-то, и так как сидеть
и ждать было единственным возможным занятием, то она предавалась ему со
всей страстью, на какую была способна.
Мэтью столкнулся с начальником станции возле билетной
кассы, которую тот запирал, собираясь домой к ужину, и спросил у него,
скоро ли придет поезд, который должен был прибыть в пять тридцать.
— Он уже пришел и ушел полчаса назад, — отвечал этот
бодрый служащий. — Но тут есть пассажир, которого высадили и который
ждет вас, — маленькая девочка. Она сидит вон там на досках. Я предложил
ей пройти в комнату ожидания для дам, но она очень серьезно сообщила
мне, что предпочитает оставаться на открытом воздухе. "Тут больше
простора для воображения", — сказала она. Оригинальная девчушка, должен
заметить.
— Я не жду никакой девочки, — сказал Мэтью
беспомощно. — Я приехал за мальчиком. Он должен быть здесь. Миссис
Спенсер должна была привезти его из Новой Шотландии.
Начальник станции присвистнул.
— Похоже, тут какая-то ошибка, — сказал он. — Миссис
Спенсер вышла из поезда с этой девочкой и оставила ее на мое попечение.
Она сказала, что девочка из сиротского приюта и что вы с вашей сестрой
берете ее на воспитание и сегодня же за ней приедете. Это все, что мне известно. И я тут больше никаких сирот не прячу, — добавил он шутливо.
— Непонятно, — сказал Мэтью растерянно, жалея, что нет здесь Мариллы, чтобы разобраться в ситуации.
— Ну, вам лучше расспросить девочку, — сказал
начальник станции беззаботно. — Я уверен, она сумеет объяснить — язык у
нее подвешен, не сомневайтесь. Может быть, у них не было мальчиков того
сорта, что вам нужен.
И он поспешил домой, так как был голоден, а
несчастный Мэтью остался, и предстояло ему сделать то, что было для него
хуже, чем войти в логово льва, — подойти к девочке, незнакомой девочке,
девочке из приюта, и спросить у нее, почему она не мальчик. Мэтью
внутренне застонал, когда повернулся и медленно, шаркающей походкой
направился к ней.
Она следила за ним с той самой минуты, как он прошел
мимо нее, и продолжала смотреть на него и теперь. Сам Мэтью не глядел на
нее, но даже если бы и взглянул, то не увидел бы, какой она была, но
любой обыкновенный наблюдатель увидел бы вот что…
Девочка лет одиннадцати в очень коротком, очень
тесном, очень некрасивом платье из жесткой желтовато-белой полушерстяной
ткани. На ней была выцветшая коричневая матросская шляпа, а из-под
шляпы на спину ложились две очень толстые косы, рыжие, как огонь. Личико
у нее было маленькое, бледное и худое, со множеством веснушек, с
широким ртом и большими глазами; они казались то зелеными, то серыми в
зависимости от освещения и настроения их обладательницы.
Вот и все, что мог бы заметить обыкновенный
наблюдатель; необыкновенный же, более внимательный наблюдатель мог бы
увидеть, что подбородок у нее был решительный и острый, что большие
глаза полны живости и сообразительности, что рот у нее красиво
очерченный и выразительный, что лоб широкий и умный — словом, наш более
проницательный необыкновенный наблюдатель мог бы сделать вывод, что
незаурядная душа обитает в теле этого бедного, заброшенного существа,
которого робкий Мэтью так нелепо боялся.
Мэтью, однако, был избавлен от тяжкой необходимости
заговорить первым, потому что, как только девочка поняла, что он
направляется именно к ней, она встала, одной смуглой худенькой рукой
схватила ручку своего потрепанного старомодного саквояжа, а другую
протянула ему.
— Я полагаю, вы — мистер Мэтью Касберт из Зеленых
Мезонинов? — сказала она необычно звучным и приятным голосом. — Я очень
рада вас видеть. Я уже начинала бояться, что вы не приедете за мной, и
пыталась вообразить все, что могло вас задержать. Я решила, что, если вы
не приедете за мной сегодня, я пройду по шпалам до той большой цветущей
дикой вишни на повороте, влезу на нее и там проведу ночь. Мне совсем не
было бы страшно. Было бы прелестно спать на дикой вишне, среди белых
цветов, в лунном сиянии, как вы думаете? Можно вообразить, что живешь в
мраморном дворце, правда? И я была уверена, что вы приедете за мной
завтра утром, если не сможете приехать сегодня.
Мэтью неуклюже пожал худенькую маленькую руку и в ту
же минуту решил, что делать. Он не может сказать этому ребенку с
сияющими глазами, что произошла ошибка. Он возьмет ее домой и
предоставит Марилле сделать это. В любом случае ее нельзя оставить в
Брайт Ривер, пусть даже и произошла ошибка. Так что все вопросы и
объяснения можно отложить до того момента, когда они благополучно
вернутся в Зеленые Мезонины.
— Извини, что я опоздал, — сказал он робко. — Пойдем. Лошадь там, во дворе. Давай мне твой саквояж.
— О, я сама могу его нести, — отвечала девочка
весело. — Он не тяжелый. В нем все мое земное имущество, но он совсем не
тяжелый. И потом, я знаю, как надо держать, чтобы ручка у него не
отваливалась, — так что я лучше сама понесу. Это очень старый саквояж.
Ах, я очень рада, что вы приехали, пусть даже и было бы приятно спать на
дикой вишне. Нам далеко ехать, да? Миссис Спенсер сказала — восемь
миль. Я рада, потому что люблю ездить. Ах, как это чудесно, что я буду
жить у вас и буду вам принадлежать! Я никогда не принадлежала никому…
по-настоящему. Но приют был хуже всего. Я провела там лишь четыре
месяца, но и этого было достаточно. Я думаю, вы никогда не были сиротой в
приюте, так что, скорее всего, не можете понять, что это такое. Это
хуже всего, что только можно вообразить. Миссис Спенсер сказала, что
нехорошо так говорить, но я ведь не имею в виду ничего дурного. Очень
легко сделать нечаянно что-то нехорошее, даже не догадываясь об этом,
правда? Понимаете, они были добрые, эти воспитатели в приюте, но там так
мало простора для воображения… разве что другие сироты. Было довольно
интересно воображать разные вещи о них: вообразить, например, что
девочка, которая сидит рядом, на самом деле дочь какого-нибудь графа,
украденная в младенчестве у родителей злой нянькой, которая умерла
прежде, чем успела в этом признаться. Я обычно не спала по ночам и
воображала что-нибудь в этом роде, потому что днем у меня не было
времени. Может быть, именно поэтому я такая худая… ведь я ужасно худая,
правда? Одни кости. Я люблю воображать, что я хорошенькая и пухленькая, с
ямочками на локтях.
И тут спутница Мэтью умолкла, отчасти потому, что
запыхалась, а отчасти потому, что в этот момент они остановились у
кабриолета. Она не проронила ни слова, пока они выезжали из деревни и
спускались с крутого холма. Дорога здесь так глубоко врезалась в мягкий
грунт, что края ее, поросшие цветущими дикими вишнями и стройными белыми
березами, поднимались на несколько футов над головами едущих.
Девочка протянула руку и отломила ветку дикой сливы, которая задела о бок кабриолета.
— Правда, красиво? Что вам напоминает это дерево, склонившееся к дороге, все белое и кружевное? — спросила она.
— Мм… не знаю, не думал, — сказал Мэтью.
— Конечно же невесту — невесту, всю в белом, под
прелестной кружевной вуалью. Я никогда не видела невесту, но могу
вообразить, что именно так она выглядит. Я не думаю, что когда-нибудь
стану невестой. Я такая некрасивая, что никто никогда не захочет на мне
жениться… ну, может, только иностранный миссионер. Я полагаю, миссионер
не должен быть слишком разборчивым. Но я надеюсь, что когда-нибудь у
меня будет белое платье. Это мое представление о вершине земного
блаженства. Я так люблю красивые платья. У меня ни разу в жизни не было
красивого платья, сколько я себя помню… но, разумеется, зато есть чего
ждать от жизни, правда? А впрочем, я могу вообразить, что одета
великолепно. Сегодня утром, когда я уезжала из приюта, мне было так
стыдно, потому что пришлось надеть это ужасное старое платье. Там,
понимаете, всем сиротам приходится носить такие. Один торговец из
Хоуптауна прошлой зимой пожертвовал приюту триста ярдов этой ткани.
Некоторые говорили, что он просто не смог ее продать, но я предпочитаю
верить, что он сделал это от чистого сердца, а вы как думаете? Когда мы
сели в поезд, у меня было такое ощущение, будто все смотрят и жалеют
меня. Но я тут же взялась за дело и вообразила, что на мне красивейшее
платье из бледно-голубого шелка, — потому что если уж воображаешь, то
ведь с тем же успехом можно вообразить что-нибудь стоящее — и большая
шляпа вся в цветах и с покачивающимися перьями, и золотые часики, и
тонкие кожаные перчатки, и туфельки. Я сразу почувствовала себя
счастливой и наслаждалась этой поездкой на остров всем своим существом.
Меня совсем не тошнило на пароходе. И миссис Спенсер тоже не тошнило,
хотя обычно ее тошнит. Она сказала, что у нее не было на это времени,
потому что надо было следить, чтобы я не свалилась за борт. Она сказала,
что в жизни не видела никого, кто бы так крутился, как я. Но ведь если
это помогло ей избежать морской болезни, то просто счастье, что я так
крутилась, правда? Просто я хотела увидеть все, что можно было увидеть
на пароходе, потому что не знала, представится ли еще такой случай. Ах,
сколько вишен, и все в цвету! Этот остров — настоящий сад. Я уже его
люблю и так рада, что буду здесь жить. Я и раньше слышала, что остров
Принца Эдуарда самое красивое место на свете, и часто воображала, что
живу здесь, но никогда не предполагала, что буду и в самом деле здесь
жить. Восхитительно, когда то, что воображаешь, становится реальностью,
правда? Какие странные эти красные дороги! Когда мы сели в поезд в
Шарлоттауне и за окнами стали мелькать красные дороги, я спросила миссис
Спенсер, почему они красные, а она сказала, что не знает и чтобы я,
ради Бога, не задавала ей больше вопросов. Она сказала, что я задала их
ей уже, наверное, тысячу. Я думаю, что так оно и было, но как же понять
разные вещи, если нельзя задавать вопросов? А почему эти дороги красные?
— Мм… по правде сказать, не знаю, — признался Мэтью.
— Что ж, это еще один вопрос, на который предстоит
когда-нибудь найти ответ. Разве не радостно подумать, что еще так много
всего предстоит узнать? Именно поэтому я рада, что живу, — это такой
интересный мир. И он не был бы и вполовину таким интересным, если бы мы
уже все обо всем знали, правда? Тогда не было бы простора для
воображения, ведь так? Но может быть, я слишком много говорю? Мне всегда
делают замечания. Может, вы хотите, чтобы я не говорила? Скажите
только, и я перестану. Я могу перестать, если захочу, хотя это трудно.
Мэтью, к своему большому удивлению, чувствовал себя
прекрасно. Как все молчаливые люди, он любил говорунов, если они были
готовы говорить, не ожидая, что он будет поддерживать разговор. Но он
никогда не предполагал, что общество маленькой девочки может быть таким
приятным. Женщины были, безусловно, ужасны, но маленькие девочки еще
хуже. Он особенно не любил, когда они пугливо пробирались бочком мимо
него, поглядывая искоса, как будто ожидали, что он проглотит их целиком,
если они решатся сказать хоть словечко. Таков был авонлейский тип
хорошо воспитанной девочки. Но эта веснушчатая чародейка была совсем
другая, и хотя для медлительного Мэтью было довольно трудно поспевать за
полетом ее мысли, он подумал, что ему, "похоже, нравится ее болтовня".
Поэтому он сказал, как всегда робко:
— О, говори сколько хочешь. Я не против.
— Ах, как я рада! Я чувствую, что мы с вами
подружимся. Это такое облегчение — говорить, когда хочется и когда тебе
не напоминают, что детей лучше видеть, чем слышать. Мне это говорили
миллион раз. И еще смеются надо мной, потому что я употребляю
возвышенные слова. Но если у вас возвышенные мысли, то вам приходится
употреблять возвышенные слова, чтобы их выразить, вы согласны?
— Мм… похоже, что это оправданно, — согласился Мэтью.
— Миссис Спенсер говорит, что мой язык следовало бы
прикрепить посередине. Но он прирос, и крепко, с одного конца. Миссис
Спенсер сказала, что ваш участок называется Зеленые Мезонины. Я ее
расспрашивала о нем. И она сказала, что дом весь окружен деревьями. Я
была ужасно рада. Я так люблю деревья. А их совсем не было в приюте,
только несколько несчастных хилых деревцев перед входом, за выбеленной
оградкой. Они сами выглядели как сироты, эти деревья. Мне всегда
хотелось плакать, когда я на них смотрела. Я говорила им: "Ах вы,
бедняжки! Если бы вы стояли в большом лесу среди других деревьев, где
густой мох и колокольчики росли бы вкруг ваших корней, а поблизости
шумел ручей и птички пели бы в ваших ветвях, разве не разрослись бы вы
быстро? Но здесь, где вы стоите, вы не можете расти. Я хорошо понимаю,
каково вам, маленькие деревца". Мне было грустно расставаться с ними
сегодня утром. Человек привязывается к подобным вещам, ведь правда? А
возле Зеленых Мезонинов есть ручей? Я забыла спросить об этом миссис
Спенсер.
— Да, конечно, ручей прямо за нашим двором.
— Чудесно! Жить возле ручья всегда было моей мечтой.
Хотя я никогда не думала, что она сбудется. Мечты не часто сбываются,
правда? А разве не чудесно было бы, если бы они всегда сбывались? Но
теперь я чувствую себя почти совершенно счастливой. Я не могу быть
совершенно счастливой, потому что… вот, какого это цвета, что вы
скажете?
Она перекинула вперед через худенькое плечо одну из
длинных блестящих кос и показала Мэтью. Мэтью не привык судить об
оттенках дамских локонов, но в этом случае сомнений быть не могло.
— Рыжие, да? — сказал он.
Девочка уронила косу со вздохом, таким глубоким, что
он, казалось, поднимался от самых ее стоп и давал выход всем
многовековым скорбям.
— Да, рыжие, — сказала она с покорностью судьбе. —
Теперь вы понимаете, почему я не могу быть совершенно счастлива? Никто
не смог бы, если бы у него были рыжие волосы. Я не расстраиваюсь так
глубоко из-за других вещей… веснушки, зеленые глаза и то, что я такая
худая. Я могу вообразить, что всего этого нет. Я могу вообразить, что у
меня цвет лица как лепестки розы и прелестные лучистые фиалковые глаза.
Но я не могу даже в воображении избавиться от рыжих волос. Я
очень стараюсь. Я повторяю себе: теперь у меня блестящие черные волосы,
черные, как вороново крыло. Но все напрасно, я знаю, что они
просто рыжие, и это разбивает мне сердце. Это будет трагедия всей моей
жизни. Я читала однажды в романе о девушке, у которой была трагедия всей
ее жизни, но это не были рыжие волосы. У нее были золотые локоны,
струившиеся с ее алебастрового чела. Что это такое — алебастровое чело?
Мне так и не удалось выяснить. Вы не могли бы мне объяснить?
— Мм… нет, боюсь, что не могу, — отвечал Мэтью, у
которого начинала идти кругом голова. Он чувствовал себя так же, как
однажды в своей безрассудной юности, когда на пикнике другой мальчик
уговорил его прокатиться на карусели.
— Ну, во всяком случае, это было нечто прелестное,
потому что она была божественно красива. Вы когда-нибудь воображали, что
чувствует человек, который божественно красив?
— Мм… нет, никогда, — признался Мэтью чистосердечно.
— А я это часто воображаю. А каким вы предпочли бы
быть, если бы вам предложили выбирать, — божественно красивым,
ошеломляюще умным или ангельски добрым?
— Мм… я… точно не знаю.
— Я тоже не знаю. Никак не могу решить. Но это
неважно, потому что невероятно, чтобы я стала такой. И уж точно, что я
никогда не буду ангельски доброй. Миссис Спенсер говорит… О, мистер
Касберт! О, мистер Касберт!! О, мистер Касберт!!!
Это не были слова миссис Спенсер, и девочка не
вывалилась из кабриолета, и Мэтью не сделал ничего удивительного. Просто
они миновали поворот дороги и оказались в "Аллее".
"Аллея", названная так жителями Ньюбриджа,
представляла собой отрезок дороги в четыреста или пятьсот ярдов длиной,
над которым сплетались ветвями два ряда огромных разросшихся яблонь,
посаженных много лет назад каким-то старым чудаком-фермером. Над головой
был один сплошной навес из снежно-белых благоухающих цветов. Под ним
царил пурпурный полусвет, а далеко впереди виднелся кусочек вечернего
неба, сверкающий, как огромное окно-розетка в конце длинной галереи.
Красота этого места, казалось, лишила девочку дара
речи. Она откинулась назад в кабриолете, сцепила на груди худенькие
руки, лицо ее в немом восторге было поднято к белому великолепию,
простиравшемуся над головой. Даже когда они уже выехали из «Аллеи» и
спускались по длинному косогору к Ньюбриджу, она все еще не двигалась и
не говорила. Все с тем же восторженным лицом она смотрела вдаль на
заходящее солнце, и перед ее глазами на фоне пылающего неба проходили
чудесные видения. Через Ньюбридж, шумную маленькую деревню, где собаки
облаяли их, маленькие мальчики приветствовали криками, а из окон
выглянули любопытные лица, они проехали по-прежнему в молчании. И когда
позади остались еще три мили, девочка все еще ничего не сказала. Она,
очевидно, могла молчать так же энергично, как и говорить.
— Ты, наверное, устала и голодна, — отважился,
наконец, сказать Мэтью, который не мог найти другого объяснения этому
необычно долгому молчанию. — Но нам уже недалеко, около мили.
Девочка с глубоким вздохом вышла из задумчивости и
посмотрела на него мечтательным взором существа, которое блуждало в
далеких звездных пространствах.
— О, мистер Касберт, — прошептала она, — это место, которое мы проезжали… то белое место… что это было?
— Мм… ты, наверное, имеешь в виду «Аллею», — сказал Мэтью после недолгого, но глубокого раздумья. — Да, очень красивое место.
— Красивое? О, это слово не подходит, И прекрасное —
тоже не подходит. О, оно было чудесное… чудесное! Это первое, что я
видела в жизни такое, что нельзя представить еще чудеснее. Оно вызвало у
меня радость вот здесь. — Она положила руку на грудь. — От него тут
такая странная боль, но это приятная боль. У вас когда-нибудь бывает
такая боль, мистер Касберт?
— Мм… да не помню, чтобы когда-нибудь была.
— У меня часто бывает — каждый раз, когда я вижу
что-то по-настоящему красивое. Но не следует называть это прелестное
место «Аллеей». Это название ничего не выражает. Нужно назвать его…
сейчас, подумаю… Белый Путь Очарования. Разве не замечательное образное
название? Когда мне не нравится название места или имя человека, я
всегда придумываю новое и потом так их всегда и называю. В приюте была
девочка по имени Хепзиба Дженкинс, но я всегда про себя называла ее
Розалия де Вер. Пусть другие называют это место «Аллеей», я всегда буду
называть его Белый Путь Очарования. Нам в самом деле осталось проехать
всего милю? О, мне и радостно, и грустно. Грустно, потому что эта дорога
была такой приятной, а мне всегда грустно, когда что-то приятное
кончается. Хотя, конечно, потом может произойти что-то даже еще более
приятное, но никогда нельзя быть уверенным заранее. А часто потом бывает
что-то неприятное. Я знаю по опыту. Но я рада, что у меня будет дом.
Понимаете, у меня никогда не было настоящего дома, сколько я себя помню.
И у меня опять появляется эта приятная боль в груди, как только
подумаю, что еду в настоящий, свой дом. Ах, как это чудесно!
Они миновали гребень холма. Внизу раскинулся пруд,
выглядевший почти как река — такой длинный и извилистый он был. Мост
пересекал его посередине. Ниже моста, до того места, где янтарный пояс
песчаных холмов отделял его от темно-голубого морского залива, вода
представляла собой буйство множества меняющихся красок — полупрозрачных
оттенков шафранного, розового, бледно-зеленого с другими неуловимыми
оттенками, для которых еще никто не нашел названия. Выше моста пруд
вился между рощами елей и кленов и сверкал темной водой среди
колеблющихся теней. Кое-где склонялась с берега дикая вишня, словно
девушка в белом, вставшая на цыпочки, чтобы полюбоваться своим
отражением в воде. Из болота, окружавшего верхний конец пруда, доносился
звучный, меланхолически сладкий хор лягушек. Чуть выше пруда на склоне
стоял маленький серый домик, выглядывавший из яблоневого сада, и хотя
еще не было совсем темно, свет горел в одном из его окошек.
— Это пруд Барри, — сказал Мэтью.
— Нет, это имя мне тоже не нравится. Я назову его…
дайте подумать… Озеро Сверкающих Вод. Да, это правильное имя. Я знаю это
по дрожи. Когда я нахожу имя, которое точно подходит, я чувствую дрожь.
У вас что-нибудь вызывает дрожь?
Мэтью размышлял.
— Мм… пожалуй, да. Дрожь меня всегда пробирает, как
увижу этих противных белых гусениц, которые ползают в огуречных грядках.
Терпеть их не могу.
— О, мне кажется, это не совсем та дрожь. А вы как
думаете? Ведь есть разница между гусеницами и озерами сверкающих вод,
правда? Но почему этот пруд называют прудом Барри?
— Наверное, потому, что мистер Барри живет там, в том
доме. Садовый Склон — вот как это место называется. Если бы не та
густая роща за ним, ты могла бы увидеть отсюда Зеленые Мезонины. Но нам
придется проехать через мост и кругом по дороге, это еще примерно
полмили.
— А у мистера Барри есть маленькие девочки? Ну, не очень маленькие — моего возраста.
— Да, у него дочке одиннадцать лет. Ее зовут Диана.
— О-о! — протянула она, глубоко втягивая воздух. — Какое прелестное имя!
— Ну, я так не думаю. Звучит как-то ужасно
по-язычески. Я предпочел бы Джейн или Мэри или еще какое-нибудь разумное
имя вроде этого. Но когда Диана родилась, Барри сдавали комнату
школьному учителю. Они попросили его выбрать имя, и он предложил имя
Диана.
— Жаль, что не было такого учителя там, где я
родилась. О, мы уже на мосту! Я зажмурюсь покрепче. Мне всегда страшно
переезжать через мосты. Я не могу удержаться и не воображать, что, может
быть, как раз когда мы будем на его середине, он закроется, как
складной ножик, и защемит нас. Поэтому я закрываю глаза. Но мне всегда
приходится открыть их, когда мне кажется, что мы уже возле середины.
Потому что, понимаете, если бы мост закрылся, я хотела бы увидеть, как
он закрывается. Как он весело громыхает! Я люблю, когда так громыхает.
Разве не чудесно, что есть так много вещей на свете, которые можно
любить? Ну, вот и проехали. Теперь я посмотрю назад. Спокойной ночи,
дорогое Озеро Сверкающих Вод. Я всегда говорю спокойной ночи вещам,
которые люблю, совсем как людям. Я думаю, им это нравится. Эта вода
словно улыбается мне.
Когда они миновали очередной холм и дорога снова повернула, Мэтью сказал:
— Мы почти возле дома. Зеленые Мезонины…
— О, не говорите где, — прервала она, поспешно хватая
его приподнявшуюся было руку и закрывая глаза, чтобы не видеть, куда он
указал. — Позвольте, я угадаю. Я уверена, что угадаю правильно.
Она открыла глаза и взглянула вокруг. Кабриолет был
на гребне холма. Солнце уже село, но окрестности были еще ясно видны в
мягком свечении заката. На западе темный шпиль церкви высился на фоне
ярко-оранжевого неба. Внизу была маленькая долина, а за ней тянулся
длинный покатый склон, на котором толпились аккуратные фермерские
дворики. Глаза девочки перебегали от одного из них к другому жадно и
серьезно. Наконец, взгляд ее остановился на одной ферме, далеко слева от
дороги, белевшей в дымке цветущих деревьев и сумраке окружающего леса.
Над ней в юго-западной стороне безупречно чистого неба сверкала огромная
хрустально-белая звезда, словно светильник, указывающий путь, полный
надежд.
— Вот это, правда? — сказала она, указывая рукой.
Мэтью в восхищении хлестнул кобылу вожжами.
— Ну, угадала! Но, я думаю, миссис Спенсер все подробно описала, и потому ты смогла угадать.
— Нет, она не описывала… правда не описывала. Все,
что она сказала, можно было бы сказать о любой из этих ферм. У меня не
было представления, как она выглядит. Но как только я увидела, я
почувствовала, что это мой дом. Ах, мне кажется, что я во сне. Знаете, у
меня, наверное, вся рука выше локтя в синяках, столько раз я себя
сегодня щипала. Каждую минуту меня охватывало страшное чувство: я
боялась, что все это только сон. И тогда я щипала себя, чтобы убедиться,
что это правда, пока вдруг я не вспомнила, что если даже это только
сон, то лучше спать и смотреть его как можно дольше, и я перестала себя
щипать. Но это не сон, и скоро мы будем дома.
Со вздохом восторга она снова погрузилась в молчание.
Мэтью беспокойно ерзал на своем месте. Он был рад, что это Марилле, а
не ему придется сказать этому бедному бездомному ребенку, что дом, к
которому он так стремился, не станет его домом. Они проехали по Долине
Линд, где уже было довольно темно, — но не настолько, чтобы миссис
Рейчел не могла заметить их со своего наблюдательного пункта у окна, — и
затем по холму и длинной тропинке к Зеленым Мезонинам. К тому времени,
когда они подъехали к дому, Мэтью весь содрогался перед приближающимся
раскрытием печальной истины с чувством, которого не мог себе объяснить.
Он думал не о Марилле, не о себе, не о тех хлопотах, которые эта ошибка,
вероятно, им доставит, но о разочаровании девочки. Когда он думал о
том, что этот восторг погаснет в ее глазах, у него появлялось
болезненное чувство, как будто ему предстояло соучастие в убийстве, —
такое же чувство появлялось у него, когда ему нужно было зарезать
ягненка или теленка или любое другое невинное маленькое создание.
На дворе было совсем темно, когда они подъехали к дому, и листья тополей шелестели вокруг, словно шелк.
— Послушайте, деревья разговаривают во сне, —
прошептала девочка, когда он снял ее с кабриолета и поставил на землю. —
Какие у них, должно быть, чудесные сны!
Затем, крепко держа саквояж, заключавший в себе "все ее земное имущество", она последовала за Мэтью в дом.
|